Единство иммунных механизмов реализации старения клеток (сенесцент), старения организма (сенилит) и онкологии
Болезнь Паркинсона как наглядный пример аналогии с сенесцентом клеток в конкретной ткани
Ранее автор в своей книге рассмотрел механизм развития болезни Паркинсона (БП) и показал, что эта дегенеративная патология связана с гибелью дофаминергических нейронов и воспалительной реакцией. Также были показаны механизмы действия Лютеолина в роли нейропротектора и возможность повернуть этот процесс вспять. Определяющую роль в проявлении нейродегенерации играет микроглия (нейроподобная клеточная линия). Патологические изменения при БП заключаются в постепенном уменьшении количества дофаминергических нейронов (функциональных и стволовых) в чёрной субстанции. В настоящее время основным методом лечения БП является заместительная терапия дофамином. Однако заместительная терапия дофамином лишь временно ослабляет симптомы заболевания, которые со временем усиливаются. Более того, длительное применение дофамина связано с рядом побочных эффектов. Глиальные клетки играют роль клеток-обслуги для нейронов и является основными иммунными эффекторными клетками в мозге. Этот тип клеток играет жизненно важную роль в гомеостазе центральной нервной системы (ЦНС), включая иммунную регуляцию, удаление отходов, восстановление повреждений и питания (трофика) стволовых или высокодифференцированных функциональных клеток. Микроглия наиболее плотно сосредоточена в чёрной субстанции, и такое специфическое распределение создаёт анатомическую основу для того, чтобы микроглия играла важную роль в патогенезе болезни Паркинсона. Микроглия, по сути, это клетки-макрофаги врожденного иммунитета расположенные изначально в данном виде ткани in situ. Они могут проявлять два полярных состояния М1 и М2 (фенотипы которые проявляют противоположное действие). Известны маркеры поляризации M1/M2 – соотношение числа про- и антивоспалительных фенотипов или модификаций глии: М1 и М2, где М1 характеризует провоспалительное действие, а М2 - противовоспалительное. Существует возможность взаимной трансформации между фенотипами микроглии M1 и M2 в зависимости от конкретного лечения. Причем эта трансформация или модификация закрепляется на эпигеноме и приводит к устойчивым, необратимым фенотипам патологического типа. Чтобы преодолеть этот образовавшийся модификат нужно порой потратить многие месяцы таргетного лечения (6-12), чтобы его снять. Это особенность любого хронического процесса. Модификаты превращаются в доминирующий тип и не допускают к обратной модификации, что превращает болезнь в хронику или в непреодолимое состояние. Такая доминантность клеток с изменённым эпигеномом придаёт ткани новые невозвратные свойства и перекрывает ювентальный реверс*. Этот патологический процесс протекает по рельсам преждевременного местного сенесцента и аналогичен тому как и при неизбежном появлении доминирования сенесцентных клеток (старческих не способных к пролиферации и самообновлению). При острой стимуляции в ответ на травму, инородные тела, инфекцию микроглия даёт быстрый ответ и подключает системный иммунный ответ, а с исчезновением проблемы возвращается в прежний статус, тогда как при сенилите (возрастное изменение гормонального профиля) провоспалённая микроглия постепенно переходит в доминантный тип M1. При этом её морфология меняется: отростки становятся толще, а клеточные тела — крупнее. Одновременно микроглия высвобождает большое количество воспалительных факторов, активных форм кислорода, оксида азота и супероксидного глутамата, чтобы уничтожать патогенные микроорганизмы и привлекать дополнительную микроглию к месту повреждения. Одновременно эта микроглия выпускает сигналы SOS – воспалительные цитокины. Такая воспаленная глия приобретает противоположные свойства и из трофогенного действия становится патогенной, угнетающей, подавляющей функции стромы. Это начало дегенеративного или атрофического процесса. При этом процесс может пойти по пути дегенерации или онкологии. Эта гиперактивность вызывает воспалительную реакцию, поэтому гиперактивация микроглии (доминирование) M1-типа рассматривается как защитная реакция мозга. Однако чрезмерная активация микроглии приводит к повреждению нейронов, которые крайне медленно восстанавливаются. Этот лавинообразный процесс перекрывает возможность подключаться процессам с клетками-донорами М2 – обратного действия. Акцепторная миссия глии преобладает над донорской. Глия спасает сама себя, но не клетки-функционала. Происходит гибель нейронов «клеток-офицеров-акцепторов» специализирующихся по данной ткани, а это значит некому делать запрос для М2 микроглии на трофогенную функцию. Это и есть картина дегенерации ткани с преобразованием её в инородную. Место нейронов занимают более примитивные типы клеток, например фиброзные. Они легче работают на гликолизе, меньше потребляют кислорода и не требуют работы клеток-обслугу М2. Микроглия в принципе может восстановиться, но нейроны практически нет или крайне медленно. Активация функции М1 микроглии может быть пусковым фактором развития болезни Паркинсона. Толл-подобный рецептор 4 (TLR4) повсеместно распространён в мозге, в основном в микроглии и астроцитах. Это наиболее важный рецептор распознавания образов (аналог антигенному контролю?), экспрессируемый в микроглии и играющий важную роль в воспалительных процессах и регуляции врождённого иммунитета. Клинические данные также подтверждают, что количество TLR4 у пациентов с болезнью Паркинсона значительно повышено и что этот эффект тесно связан с прогрессированием болезни Паркинсона.
Лечение Лютеолином сдвигает соотношение микроглии M1/M2 в сторону противовоспалительного фенотипа M2.
Как вывод: Лютеолин сдерживает дофаминергическую дегенерацию in vitro и in vivo, блокируя опосредованное нейровоспаление.
В свою очередь, аналогичное
Присутствие и перерождение клеток-обслуги имеется во всех остальных 16 типах тканей. Оно протекает аналогично болезни Паркинсона. В каждой ткани имеются свои типы стволовых клеток и свои типы клеток-спутников или сателитов, или обслуги. Во всех этих 16 типах тканей из ювентального типа союзничества они всегда перерождаются в сенесцентные группировки, которые и являются началом старения ткани. По аналогии можно заключить, что сенесцент клеток это тот же процесс модификации и появления необратимого провоспалительного доминирующего и устойчивого статуса клеток-обслуги в фенотипе М1 с утратой функциональных клеток (стволовых, клеток-офицеров). Почему необратимого? Да потому что эти модифицированные клетки становятся доминирующими и подавляющими все остальные. Создаётся новый гомеостаз клеток с новыми правилами, противоположными прежним. Этот гомеостаз сам себя поддерживает. Они прорвали оборону и перекрыли возврат прежним фенотипам. Чтобы восстановить прежние ювентальные ассоциации необходим длительный период для восстановления фронта со стороны М2 модификатов. Это означает что возврат все же теоретически возможен, но для этого нужно много времени и большие усилия для подавления М1 и репарации-регенерации клеток-офицеров.
НО! следует понимать, что доже если мы и сможем подключить механизмы ювентального реверса*, то это не устранит первопричины сенесцента, которые исходят со стороны неизбежных сенилитных перестроек в виде изменения всеобщего профиля как на гормональном уровне, так и на многих других. Если мы прекратим подавать препараты запускающие ювентальный реверс, то всё быстро вернётся на «круги своя». Но в тоже время сенилит опирается на платформу сенесцента.
Важно отметить, что приведённые данные по преобразованию клеток в сенесцентные указывают на то, что первичные механизмы геронтоса* (геронтос = сенилит+сенесцент) исходят со стороны сенилита, а не сенесцента. Но сенилит неизбежно запускает сенесцент. Поэтому не имеет особо большого значения в каком направлении начать воздействовать в противодействие сенилиту или сенесценту. Они всё равно взаимозависимы и воздействия против них должны быть одновременно с двух сторон, а не односторонними.
Выше мы описали взаимоотношения глии и функциональных клеток как яркий пример взаимоотношений «клеток-обслуги» и «клеток-офицеров». В целом это универсальный тотальный процесс во всех тканях организма, который с одной стороны обеспечивает благосостояние ткани (трофику), а с другой – противоположное состояние её самоподавления функционала. Именно эта сторона лежит в основе как процесса сенесцента, так и многочисленной хроники и даже онкологии.
От состояния клеток-обслуги зависит и тканевой гомеостаз. Мощь способности клеток-обслуги противостоять провоспалению определяет устойчивость ткани к патологическим трансформациям, перерождению её например в фиброзно-дегенеративную, то есть патологическую или в сенесцентную. Сила противостояния сенесцента определяет живучесть, жизнеспособность ткани и степень скорости её старения. Это один из механизмов определяющего видовую продолжительность жизни животного.
Как сенилит держится на платформе сенесцента? В обоих случаях процесс связан с провоспалением, но на разных этажах иерархии организма. Начальный сенилит = матура = климакс запускает первичный сенесцент. При этом сенесцент запускает механизмы провоспаления на организменном уровне через гистамин и тучные клетки и др. механизмы. Это платформа для усиления сенилитных процессов. При этом затрагиваются макрофаги подвижные, находящиеся в крови, и макрофаги местные (неподвижные, in situ). Местное и общее провоспаление обеспечивают реализацию сенилита и сенесцента.
Атеросклероз – типичная анизомалия* в сосудистой ткани на основе сенесцента иммуно-эндотелиальной системы клеток
Аутоиммуноподобная природа механизмов атеросклероза. Гарбузов Г. А. сторонник аутоиммуноподобной концепции природы атеросклероза, таковой же является и природа сенесцента во всех остальных типах тканей. Это означает, что АС является активным процессом самоотключения стволовых клеток эндотелия, опосредуемого через механизмы местного и общего иммунитета. Различие истинных аутоиммунных заболеваний от возрастного атеросклеротического в том, что если первые являются проявлением экзогенных причин и проявляются в любом возрасте, то возрастной АС является следствием эндогенных сенесцентных процессов. В обоих случаях процесс идёт через посредство иммунной системы и запуск ею одних и тех же провоспалительных механизмов. В одном случае это следствие экзогенных факторов, а в другом – это раскрытие эндогенного потенциала по причине эпигеномных перестроек на клетках-менеджерах для эндотелия. Уверен, что такие клетки обязательно есть и эндотелиальной системы клеток. Они то и должны первично обеспечивать неминуемую возрастную эндотелиальную недостаточность, которая также может облегчать проход к патологическому АС. Ослабление системы иммунных и трофогенных клеток ведёт к вторичной дегенерации и отмиранию клеток-офицеров.
По современным взглядам считается, что при АС иммунные клетки привлекаются в места дисфункции эндотелия, в частности моноциты, которые дифференцируются в макрофаги. Автор считает что здесь неизбежно должны участвовать и макрофаги врожденного иммунитета in situ. Их модификация ведёт к дисфункционалу эндотелия и утрате им гликокаликса. Утрата функционала стволовых и стромальных клеток связана с доминированием М1 над М2.
Во всех научных работах АС рассматривается как патологический процесс, а не как естественный результат сенесцента системы клеток, где инициатором процесса являются не патологические факторы, а иммунные клетки модифицирующиеся из-за сенилита эпигеномно.
АС жестко связан с провоспалительными процессами экзо- и эндогенного генеза. Часто путают преждевременный патологический АС с естественным, неизбежным. В любом случае это сопряжено с гибелью защитного слоя из гликокаликса и эндотелия. Это открывает начало проникновению в поврежденные стенки тромбоцитов, которые гибнут здесь массово, закрывая «амбразуру». В дальнейшем сюда проникают макрофаги-пенные клетки, которые поедают тела тромбоцитов. Но воспаление от этого не уменьшается и поврежденная зона вторично «хоронится» холестерином. Таким образом, АС бляшки это вторичный процесс защиты стенки сосуда, связанный как с патологическими факторами, так и с возрастной дегенерацией эндотелия. Мы будем обсуждать только возрастную дегенерацию. Обе проблемы связаны с провоспалением.
Чтобы остановить процесс предварительно следовало бы устранить хроническое воспаление, а затем приступать к резорбции бляшки и регенерации стенки сосуда. Но сенесцент это персистирующая автономная система, которая основана на провоспалительных макрофагах М1, которые в сложившейся ситуации стали доминантными и подавляют М2. Система вышла из равновесия, а также вышла за пределы гомеостаза, то есть неуправляемости, когда обратной дороги нет. Если при патологическом преждевременном атеросклерозе возможность восстановления сосудов и гликокаликса еще имеется, то при анизомалийном АС такая возможность отсутствует.
Считается, что в настоящее время не существует методов лечения, которые эффективно устраняли бы уже сформировавшиеся бляшки. Но это можно и объяснить тем, что одной резорбции бляшки не достаточно, нужны дееспособные ювентальные клетки, которых уже в этой системе уже практически нет. Регенеративной мощи не хватает. Без устранения сенесцентных клеток (истинной причины проблемы) достичь ничего невозможно.
Таким образом, в молодости организм легко предотвращает АС с помощью иммунных клеток in situ и прибывающих из вне (костного мозга) моноцитов (макрофагов). Всё находится в гомеостазе и гормезисе*, система репараций сбалансирована.
Доминирование провоспалительного макрофагального фенотипа можно корректировать, например, с помощью омега-6 кислоты. Через смену сенесцентного фенотипа макрофагов можно повернуть вспять процесс. То есть воздействуем через клетки-обслугу, а не напрямую через сами стволовые клетки и строму.
(«Классически активированные» проатерогенные макрофаги MΦ1 активируются под воздействием цитокинов Т-хелперов (Th)-1, таких как IFNγ и IL-1β, а «альтернативные» противовоспалительные макрофаги MΦ2 активируются под воздействием цитокинов Th2, таких как IL-4 и IL-3).
Сенесцент - это результат активности модифицированных макрофагов. То есть они приобрели новый фенотип сенесцента М1, особенностью которых является способность подавлять функциональность клеток-офицеров. Делают это они через сверхактивацию непрерывно персистирующего без внешней причины на то провоспаления. Воспаляясь сами, они воспаляют и всё окружающее. Это макрофаги врожденного иммунитета и находятся пожизненно внутри каждой данной ткани и, по сути, являются клетками-менеджерами для высокофункциональных клеток, в частности для стволовых эндотелиальных клеток сосудов. Аналогичное происходит и с меланоцитами (отвечают за пигмент меланин и цвет волос), кератиноцитами (отвечают за молодость кожи) и т. д… Макрофаги линии М2 активно подавляют их, принуждают к переключению на дезактивацию, исключают возможность на репарацию. Также автор предполагает, что по сути должно быть не 2 популяции макрофагов, а 4, где два из М1 и М2 работают в пределах гомеостаза, а два из них -М1 и М2+ работают за пределами гомеостаза, не возвратны и становятся эррупторами.
Макрофаги в роли эррупторов. В данном случае новый фенотип макрофагов превращает их в эррупторы (нарушители требований гомеостазов) стволовых клеток. Из менеджмента они превращаются в оборотней, переподчиняя себе своих хозяев. Такое становится возможным, когда клеточные системы выходят за порог гомеостазов. Именно эррупторы, так как они действуют через эпигеном. Таким образом, сенесцент можно расценивать как активный процесс самоотключения, дезактивации в тканевой системе взаимодействия клеток.
Иммунная система в старости нас активно отключает. Все остальные процессы, как высокий холестерин, отложение бляшек, инфильтрация стенки иммунными пенными клетками, склероз интимы сосуда (перерождение гладкомышечных клеток в соединительную ткань) – всего лишь проявления анизопении* эндотелия. Анизомалии и анизопении – это не патология, а часть возрастной физиологии активного процесса самоотключения дифференцированной функции ткани, реализованного через иммунную систему.
Аутоиммунная аналогия механизмов сенесцента. Подавление функциональности клеток означает проявление анизопении* (дисфункция стволовых клеток), которая является основой анизомалий* для тканей и систем (возраст-зависимых заболеваний). Как показано Лютеолин подавляет провоспаления, а значит сдерживает эпигеномные модификации макрофагов с преобразованием в новые фенотипы, в частности из М1 в М2. Но такие же фенотипы макрофагов имеются и в других 16 типах тканей, где происходят аналогичные процессы самоотключения функционала, то есть идут эрруптивные* (нарушительные) процессы одряхления всех тканей в пределах всего организма.
Можно сделать вывод, что Лютеолин действуя на провоспалительный статус и фенотип макрофагов, будет действовать аналогично не только при атеросклерозе, но и во всех остальных типах тканей.
Взаимоотношения провоспалительных процессов на уровне организма (анизомалия) и уровне клеток (сенесцент)
Рассмотрим один из вариантов провоспаления на уровне организма. Так мёртвая пища (термообработанная) причина загустения крови и увеличения лимфоцитоза, увеличения уровня лейкоцитов (белых кровяных телец, разновидность макрофагов). Особенно бурный лейкоцитоз вызывает применение мяса животных и даже хранившейся рыбы. Они выделяют огромное количество гистамина, продукта боли у умирающего животного, а также токсические продукты гниения типа скатол, кадаверин, другие биогенные амины и трупные яды. Эту боль и яды мы забираем на себя. Гистамин участвует в аллергизации, а также является одним из медиаторов, участвующих в процессах воспаления.
Дело в том, что многие хронические и возрастные заболевания всегда сопровождаются повышенным гистамином, в том числе и при атеросклерозе, рассеянном склерозе, аутоиммунных заболеваниях и др. Предварительно этому предшествует провоспаление ткани благодаря избытку гистамина. Гистаминовое провоспаление предрасполагает к гистаминозу. Возрастной избыток гистамина связывают с клеточным старением – сенесцентом. Системное провоспаление in vivo стимулирует механизмы провоспаления in situ и наоборот. Дисбиоз кишечника – одна из первопричин хронической провоспалительной реакции с выделением избытка гистамина, содействующему провоспалению во многих тканях. Именно гистамин ведущая скрипка как в аллергических реакциях, так и воспалениях.
Комплексные препараты для подавления провоспаления
Итак, провоспалительные процессы могут зарождаться на разных уровнях и за счёт разных механизмов, а значит универсального препарата для их нет. Это означает, что подход здесь должен быть многоплановый, многоуровневый, а значит участие должны принимать множество препаратов разного «калибра» и «дальности» воздействия.
Например, в Спирулине имеются компоненты, чья активность предотвращает выброс гранул гистамина из макрофагов, уменьшая тем самым интенсивность как аллергической реакции, так и провоспаления. Противовоспалительным действием обладают и салицилаты, например в иве, которые уменьшают выработку простагландинов и т. д. Напомню, что салицилаты — это природный аспирин, которые довольно быстро могут гасить хронический провоспалительный процесс, например в стенке сосудов, что связано с атеросклерозом. Следует ожидать что Лютеолин действует в унисон Аспирину. Это говорит о том, что существует целый спектр препаратов синергистов, которые и будут повышать эффективность друг друга.
Итак, глубину антипровоспалительного профиля могут обеспечить совместное применение:
- Лютеолин,
- Аспирин,
- Дигидрокверцетин,
- Спирулина,
- Куркумин,
- ....
Сходство и различие провоспалительных механизмов при онкологии и сенесценте
Автор считает, что сенесцент и канцерогенез – это две крайности одной и той же проблемы, начальные корни которой находятся в эпигеноме. Следует различать эпигенетические (на уровне отдельных генов) и эпигеномные (на уровне всего генома) модификации, которые могут в ряде случаев быть разнонаправленными и определять в одних случаях патологию, в других сенесцент или онкологию. Так, например, при различных типах рака наблюдается гипометилирование всего генома и гиперметилирование отдельных генов.
Эпигеномный статус это звено единой закольцованной системы с митохондриальной системой. Каждая из них определяет состояние другой. Митохондриальные дисфункции ведут именно к тотальным эпигеномным изменениям с образованием фенотипов М2+.
Эпигенетика, в том числе метилирование ДНК, модификация гистонов и регуляция некодирующей РНК, — это физиологические регуляторные изменения, которые влияют на экспрессию генов, не изменяя последовательность ДНК.
Существует множество доказательств того, что ряд флавоноидов регулируют эпигенетику рака. Но автор данной работы обращает внимание на данные, которые показывают, что те же флавоноиды (например Лютеолин, Куркумин, Кверцитин…) определяют и эпигенетику сенесцента. Показательно, что одни и те же препараты действуют одинаково и на онкологию, и на сенесцент.
Напомню, что в растительном мире нет клеточного сенесцента и клеточной онкологии!
Сходство особенностей работы клеток-обслуги в раковых и сенесцентных клетках
В условиях организма раковые клетки не существуют в виде чистых гомогенных популяций стволовых онкоклеток. Обычно они создают симбиоз или «гнёзда раковых клеток».
Дело в том, что в условиях организма опухоль состоит не только из раковых клеток, но и из раковой стромы (предшественники стволовых находящиеся в покое), внеклеточного матрикса опухоли, рекрутируемых не раковых типов клеток-обслуги, иммунных клеток, макрофагов, фибробластов, ассоциированных с раком, нейрогормонального воздействия и др.
Кстати, стромальные клетки представляют собой покоящиеся фенотипы онкоклеток, причём они могут быть одновременно морфотипами любой ткани: сосудистой, нервной, хрящевой, костной и т.д., то есть тех, из которых возникла опухоль. Вся эта «обслуга» находится под влиянием «ауры» раковых клеток, которая состоит из лактата и др. кислот, протонов H+, АФК, перекиси, кетонов, провоспалительных цитокинов…, тем самым модифицируют, «зомбируют» их под свои нужды. Как видим «аура» или секретом раковых и сенесцентных клеток схож.
Именно эта «строма» и модификаты-рекруты становятся защитой, поддержкой для раковых клеток и больше всего мешают подавлению раковых клеток, так как подавляя их, мы подавляем и здоровые клетки. Получается что опухоль это взаимодействующий союзнический конгломерат, симбионт включая пул пролиферирующих самих раковых клеток, раковую строму и нераковые рекруты. Эти стромальные клетки как флюгер могут легко подстраиваться, менять свою суть, обязанности и свой фенотип в связи с изменением условий среды на кислые и провоспалительным фоном (избыток цитокиновых геномодуляторов), и приобретают противоположные способности, превращаются в опекунов и попечителей-гарантов для трофики раковых клеток. Но ведь аналогичная модификация наблюдается и в клетках-обслуги сенесцентных клеток-офицеров. Никакой антираковый иммунитет здесь не пробьётся. Все эти клетки-«предатели» помечены рецепторами как «нормальные» клетки. Без этих гарантов сами по себе раковые клетки не смогут существовать. Точно такую же роль они играют для сенесцентных клеток. Но они тоже находятся в гликолизе навязанном лактатом и поэтому «зазомбированы». Их гликолиз это вынужденная навязанная длительная «командировка» в это функциональное состояние, тогда как сами онкоклетки имеют закреплённые перестройки и модифицированы на эпигенетическом уровне. Если мы эти клетки гаранты сможем вывести из гликолиза, то активность раковых клеток затухнет. Поэтому все методики, которые мы предлагаем, направлены на вывод клеток-гарантов из гликолиза - это применение:
- Аморфного кальция,
- бикарбонаты K и Na, повышающие СО2,
- водородотерапия,
- насыщение магниевыми препаратами для поддержки и стимулирования митохондрий,
- повышение ОВП на мембранах онкоклеток…
Создаётся впечатление, что эти же препараты будут противодействовать и сенесцентным клеткам? Почему так? В сенесцентных клетках наблюдается митохондриальная недостаточность и оксидативный стресс, а в онкоклетках дисфункция митохондрий компенсирована глубоким гликолизом?
Онкогенез крайняя модификация преждевременного патологического сенесцента?
Напомню, что сенесцент может проявляться не только как тотальный, но и в виде преждевременной хронической патологии в пределах одной ткани (анизомалия*). Онкология это тоже процесс in situ, когда он зарождается в провоспалительном русле с зашкаливанием в онкологию. Поэтому уместно сравнивать и видеть единство в этих двух непохожих процессах с учётом многочисленных исходных сходств. Онкоклетки – это крайность маятникового механизма регулировок пролиферации в среде сенесцента?
Что такое клетки-обслуги? Это, по сути, местные иммунные клетки макрофаги.
Благодаря огромной функциональной пластичности клеток-обслуги (фагоциты-макрофаги, фибробласты и др.) еще и «определяют погоду» многих метаболических, иммунологических и воспалительных процессов, как в норме, так и при патологии, например при онкологии, сенесценте, хронических заболеваниях... Макрофаги одарены способностью к огромной пластичности, приспосабливаться, т. е. способности изменять свою транскрипционную программу (эпигенетическое «переключение» тех или иных генов) и свой облик (фенотип). Эта пластичность им дана изначально подстраиваться и реагировать на внешние изменения среды. Все удары внешней среды они как защитные буферы берут на себя. Но в определённых случаях они не выдерживают оборону, в т. ч. и оксидативный стресс и провоспаления, гормональную агрессию или возрастные перестройки. В этом случае они дают парадоксальный ответ: из положительной защиты в отрицательных агрессоров. Неудивительно, что в своей статье автор рассматривал атеросклероз как проявление аутоиммуноподобного процесса. При онкологии макрофаги-менеджеры стволовых и функциональных клеток действуют не против онкоклеток, а как их помощники.
Следствием этой особенности является высокая разнородность клеточной популяции макрофагов, среди которых присутствуют не только «агрессивные» клетки, встающие на защиту организма-хозяина; но и клетки-оппортунисты с «полярной» функцией, отвечающие за процессы «мирного» восстановления поврежденных тканей. А самое главное, именно они образуют «защиту» как онкоклеток, так и стабилитет сенесцентных клеток и обеспечивают специфику их трофики. Через них онкоклетки попросту «доят» другие ткани.
Онкоклетки в первую очередь нечувствительны к подавляющим их агентам, часто не потому что они резистентны, а потому что находятся под защитой здоровых клеток, но модифицированных. Именно клетки-обслуги в большей степени поддаются делактиляции. Да, они тоже в гликолизе, но по крайней мере их можно вывести из гликолиза, а онкоклетки нет. Аналогично и сенесцентные клетки не удаётся вывести из пролиферативного штопора. В одном случае полная бесконтрольность пролиферации, а в другом – полное «застревание» на одном из этапов митоза. Это маятниковые крылья одного общего механизма регулировки пролифераций. При этом происходит выход за пределы градиента нормы параметров регуляции и переход в режим за пределами гомеостаза – неуправляемости. Нам важно в этой ситуации вывести из гликолизного «наркоза» и клетки-обслугу. Онкопроцесс остановится. Выходя из гликолиза они перестают работать на раковые. Оголяется раковая «оборона». Раковые клетки не возможно просто вывести из гликолиза.
Макрофаги могут легко трансформироваться из М1 (уничтожающие, пожирающие) в М2 (заживляющие, содействующие размножение и распространению). Такие местные макрофаги начинают подавлять противораковый централизованный иммунный ответ лимфоцитов. Точно также в сенесцентных тканях макрофаги мешают запустить процессы аутофагии и апоптоз для замены на молодые функциональные клетки.
Следует отметить, что как онкологические, так и сенесцентные клетки трудно поддаются восстановлению из-за их эпигеномных модификаций. В принципе эти модификации связаны с иммунными клетками-обслугой и обратимы. Но для этого нужны долгосрочные программы и методы по ремодификации.
Сравним эпигенетику онкологии и сенесцента
Эпигенетические механизмы могут обходить изменения в последовательности ДНК и напрямую влиять на экспрессию протоонкогенов и генов-супрессоров опухолей, вызывая канцерогенез. Кроме того, эпигенетические нарушения возникают на ранней стадии канцерогенеза и предшествуют мутациям, которые также происходят в соматических клетках. Важно то, что такие механизмы канцерогенеза, в отличие от генетических, часто являются двусторонними и обратимыми.
Показано, что в отношении физиологической и патологической регуляции генов у млекопитающих эпигенетические эффекты в основном связаны с тремя аспектами:
- метилированием ДНК,
- модификацией гистонов,
- регуляцией некодирующей РНК.
Флавоноиды также регулируют эпигенетические нарушения при раке посредством этих трёх аспектов.
В тоже время онкология связана с экзогенными причинами эпигенеза, а сенесцент – с эндогенными возрастными причинами эпигенеза, основанными на процессах сенилита.
Метилирование ДНК может напрямую изменять экспрессию генов без изменения генетической информации и участвует в различных биологических процессах, таких как стабильность генома, регуляция транскрипции генов, эмбриональное развитие и онкогенез. Метилирование ДНК является распространённым явлением в геноме ДНК человека, при котором метильные группы ковалентно связываются с пятым атомом углерода в цитозиновой группе динуклеотидов CpG, образуя 5-метилцитозин.
По сравнению с соматическими клетками, в раковых клетках наблюдается гиперметилирование промоторных участков множества генов-супрессоров рака, которые считаются общими регуляторами подавления транскрипции генов-супрессоров опухолей, в то время как гипометилирование наблюдается во всём геноме раковых клеток и связано с повышенной экспрессией протоонкогенов.
Большинство флавоноидов оказывают сильное влияние на метилирование, а гесперидин и нарингенин являются препаратами-кандидатами, ингибирующими DNMTs.
Модификация гистонов
Помимо метилирования ДНК, которое происходит непосредственно в последовательностях генов, на структуру хроматина также влияет модификация гистонов, которая связана с репликацией, транскрипцией и репарацией ДНК посредством взаимодействия гистонов с ДНК или гистонов между собой.
Ацетилирование гистонов. Играет важную роль в регуляции генов, структуре хроматина и онкогенезе. Общепринято, что высокое ацетилирование активирует, а низкое ацетилирование ингибирует экспрессию генов. Ацетилирование гистонов играет важную роль в развитии рака. HDAC и HAT могут взаимодействовать с протоонкогенами и генами-супрессорами опухолей и тем самым нарушать регуляцию этих генов во время пролиферации опухолевых клеток, метастазирования и апоптоза.
Метилирование гистонов. Метилирование также участвует в эпигенетической регуляции гистонов.
Регуляция некодирующей РНК. миРНА.
Современные представления о микроРНК позволяют предположить, что они являются важными эпигенетическими векторами и ключевыми факторами в противораковой регуляции с помощью флавоноидов.
Появляется всё больше доказательств связи между микроРНК и раком. Профили экспрессии микроРНК можно использовать для того, чтобы отличить нормальную ткань от раковой и классифицировать различные типы рака.
lncRNA. В отличие от микроРНК, lncRNA, хорошо известна своими регуляторными эффектами на клеточный цикл, клеточную дифференцировку и эпигенетическими эффектами на биологические процессы.
Эпигенетические эффекты флавоноидов при раке
На развитие рака влияют взаимодействия генетики и эпигенетики. Профилактические флавоноиды могут химическим путём устранять неблагоприятные эпигенетические метки в раковых клетках, что может вдохновить исследователей на поиск новых способов профилактики и раннего лечения рака.
Иммунные ключи сенесцента и сенилита - цель для противодействия старению
Ранее автор подробно описал что сенесцент клеток это не автономный процесс старения клеток, а следствие иммунных модификаций иммунных клеток. Стволовые и функциональные клетки (строма) сами по себе не стареют, а их инициируют к этому иммунные клетки-обслуги. Как вывод: бороться надо не со стареющими сенесцентными клетками, а противодействовать иммунным модификациям. Восстанавливать стареющую ткань можно только через ювентализацию иммунных клеток. Они посредники, промежуточное звено между организмом и стволовыми клетками. От них зависит по какому пути пойдёт развитие стромы: самовозобновления или дегенерации.
В одних тканях приоритет развития сенесцента в большей степени зависит от местных иммунных клеток, а в других – от общеорганизменных мигрирующих иммунных клеток. Как видно из описания процессов в болезни Паркинсона основные механизмы дегенерации здесь возложены на глию – местный иммунитет, а при атеросклерозе – преимущество приобретают макрофаги пенные клетки, то есть внешний иммунитет.
Бороться с сенесцентом можно только через ювентализацию местного иммунитета. Именно они определяют сенесцент всей ткани.
Термины:
- Анизомалия - Неадекватные для витаукта параметры жизнедеятельности, которые находятся за пределами коридора гормезиса и ведут к неизбежным особым состояниям. Они накапливаются с возрастом. Понятие «анизомалия» следует обязательно отделять от понятия «возрастные болезни», так как при болезнях обязательно следует обращать внимание на конкретные механизмы патологии и локальное воздействие на них, что абсолютно не подходит при анизомалиях, то есть возрастных перестройках, связанных как с сенесцентом, так и сенилитом всего организма, при которых в первую очередь нужны совершенно другие методы, в частности общего омоложения и оздоровления организма (повышения жизненной силы, противодействующей сенесценту) и укрепления его витаукта (противодействующего сенилиту), иначе все остальные частные методики будут неэффективны. Аналог устаревшему термину «возраст-зависимые болезни». Анизо — перекос, несоответствие, «малия» — часть от слова «аномалия», то есть отклонение от нормы. Каждый тип анизомалии является одним из проявлений онтофизиса, то есть проявлением изменений гормонального фона, клеточного секретома и сенесцента и продолжением гомойтопии (ограничение роста включая и за счет гормонов подавления роста). - Термин предложил Г.А. Гарбузов.
- Анизопения – Процесс сопряженный с сенесцентом клеток, но с привязкой к конкретному типу ткани, например меланопения связана с недостаточностью стволовых клеток меланоцитов, что проявляется в поседении волос. Термин предложил Г.А. Гарбузов.
- Геронтос – Единство процессов сенилита и сенесцента проявляющееся внешне в особом состоянии старения.
- Сенесцент - Репликативное старение, которое зарождается на уровне клеток.
- Сенилит – старение, которое зарождается на верхнем общеорганизменном уровне.
- Эррупторы, эрруптивные клетки – Это макрофаги in situ, то есть регионально в ткани и в определённых состояниях они из эффекторных и трофогенных превращаются в нарушителей гомеостаза — термин предложил Г.А. Гарбузов.
- Ювентальный реверс – Механизм возврата клеток из фенотипа сенесцентных в нормальные — термин предложил Г.А. Гарбузов.
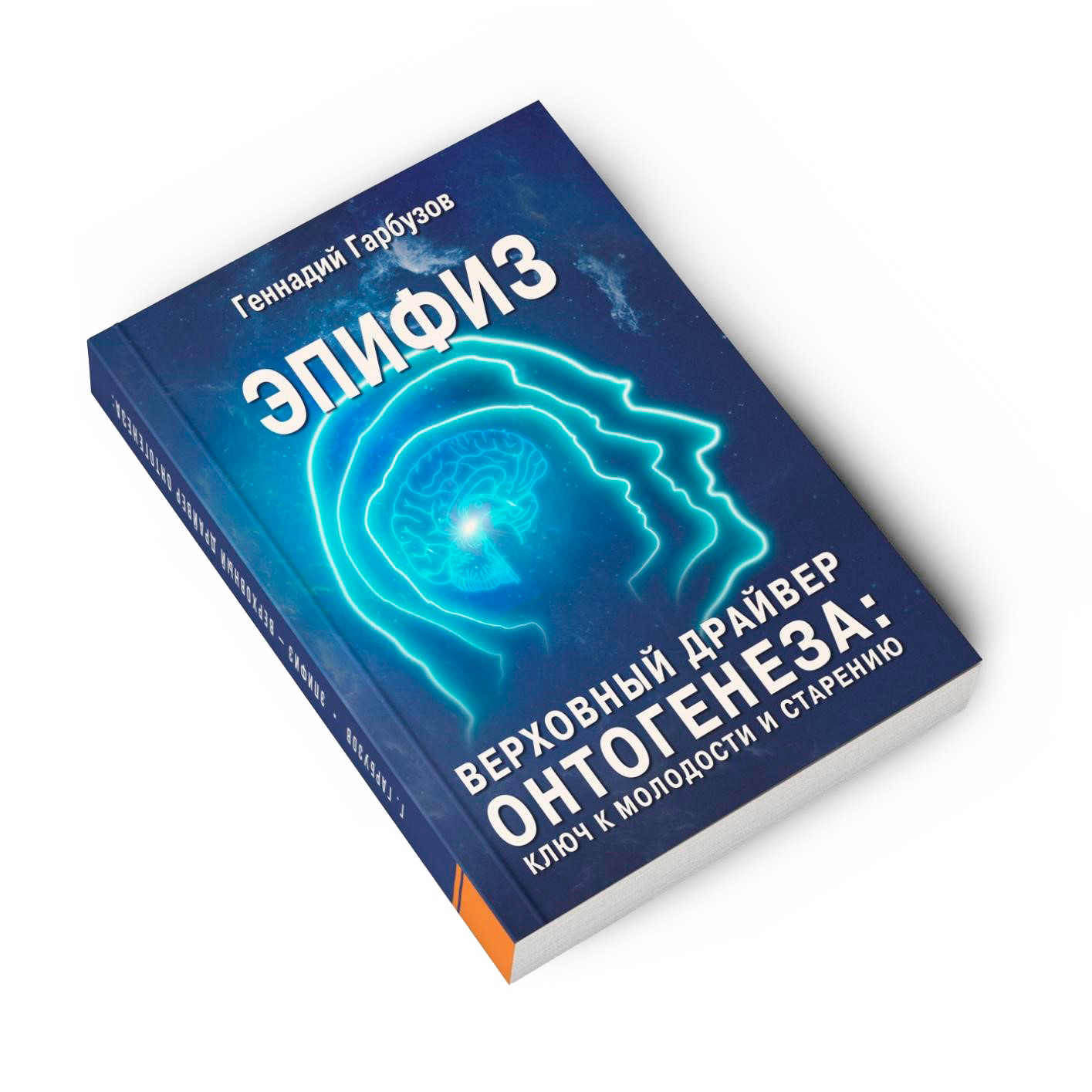
Книгу можно заказать на сайте: garbuzov.org
 КУРКУМИН-АДВАНС от завода Витаукт. Можно заказать препарат на сайте: garbuzov.org
КУРКУМИН-АДВАНС от завода Витаукт. Можно заказать препарат на сайте: garbuzov.orgДоказано что Куркумин – один флавоноидов - способный сдерживать клеточное старение, а также оксидативный стресс и тем самым способствует теломеразе, повышению её активности, а это в свою очередь помогает восстановить до полноценных теломерные балансиры. Это позволяет отодвигать лимит Хейфлика, то есть число митозов клеточных популяций с 50 до 253, таким образом повысил потентность к клеточным делениям. Куркумин способен влиять на возрастные эпигеномные изменения и тем самым омолаживать клетки.

Похожие статьи
Биолог, дипломированный фитотерапевт, нутрициолог, кандидат биологических наук
Стаж 40 лет
Подробнее обо мне